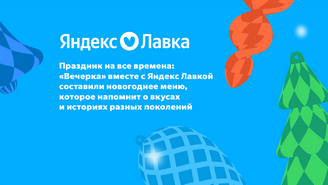Режиссер Илья Учитель: Для меня кино стало уже неотделимым от жизни
Сюжет:
Эксклюзивы ВМНа экраны вышел фильм Ильи Учителя «Батя 2. Дед». Эта комедийная история рассказывает про Деда-героя по имени Макс, с чьим Батей зрители знакомы по предыдущей части. «ВМ» побеседовала с молодым режиссером о его новой работе. Поговорили, как снимать кино, интересное широкому зрителю. Узнали про тональность, присущую кинематографу разных эпох. А также расспросили Илью Учителя про династии в российском кинематографе.
Спортивная драма и музыкальная сказка, синефильская комедия и семейная история — кажется, молодой режиссер Илья Учитель может укротить любой жанр, за который берется, адаптировать его под собственное видение. На этот раз на экраны выходит ностальгическая комедия «Батя 2. Дед». Ее герои, пара на грани развода, — Макс (Стас Старовойтов) и Ирина (Надежда Михалкова) — едут следом за своим сыном Димой (Севастьян Бугаев) к Бате (Владимир Вдовиченков) в деревню. В ту, куда в свое время маленького Макса отправляли на лето к его Деду (Евгений Цыганов), у которого есть своя непростая история любви, зародившейся во время Великой Отечественной войны. Наш разговор с режиссером и начался с обсуждения его новой киноленты.
— Илья, прошлая лента «Батя» была снята в жанре роуд-муви, ее основная линия развивалась в дороге. В вашем фильме же это, скорее, путешествие во времени, в воспоминаниях: наши дни, 1990-е, конец 1940-х... Подобный подход показался более интересным?
— Действительно, в первой части все ключевые события современной линии держались на базе роуд-муви, и только перемежались воспоминаниями о детстве Макса. Наш же фильм «Батя 2. Дед» существует сразу в трех временных промежутках, поэтому он изначально строился по-другому. Хотя и в нашей ленте, в современной ее части герои тоже находятся в дороге. Так что названный вами жанр остается, от этого мы решили не уходить.
— То есть ваше кино представляет собой сочетание разных жанров?
— Можно сказать и так. Глобально, мне кажется, у нас получилась лирическая комедия.
— В ленте три временных пласта и разные подходы к съемкам каждого из них, что подчеркивает индивидуальную тональность времени. Как достигли такого эффекта?
— Тональности действительно разные. Линию, где внук проводит лето у дедушки, нам хотелось сделать яркой, солнечной, немного сказочной. В ней все связано с детскими воспоминаниями, а они должны быть такими в фильме с нашим жанром. Поэтому эти эпизоды мы снимали на особую оптику.
В черно-белой части, которая знакомит зрителей с воспоминаниями из молодости Деда, делали полную стилизацию под кино 1950-х и 1960-х годов. Это была серьезная работа: мы ставили свет, снимали и мизансценировали (размещали в кадре артистов и обстановку. — «ВМ») так, как это делалось в то время, без скидок на те технические возможности, которыми сейчас обладаем.
Что же касается той части, действие которой происходит в наши дни, то она связана с кризисом в отношениях людей уже взрослых, поэтому была снята, я бы сказал, в духе современного авторского кино.
— Поделитесь, какой вы видите тональность современного кинематографа в целом? Ведь даже если взять только способ актерского существования, то раньше он был более сдержанным, лиричным, в 1990-е стал более ярким, вызывающим... Каков он сейчас?
— Если говорить про актерское существование, мне кажется, как раз именно теперь оно стало настолько сдержанным, что порой даже сложно понять, где, кто и что играет. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что сейчас все невероятно боятся ошибиться и промахнуться в актерской игре. Как следствие, и актеры, и режиссеры зажимаются. От этого эмоциональная сторона актерской игры в современных российских фильмах зачастую несколько проваливается. Впрочем, это не отменяет того, что есть и прекрасные, чудесные российские ленты, где все сделано на высшем уровне.
— Интересно, можно ли каким-то образом заранее просчитать успех фильмов? И почему часто бывает так, что зрительски востребованные фильмы низко оцениваются критиками, а те работы, которые отмечает фестивальное жюри, так и не доходят до массового зрителя или остаются непонятыми им?
— Так происходит всю жизнь, никакого большого секрета тут нет. Я бы в целом не разделял кино на авторское, фестивальное и народное, коммерческого склада. Потому что все равно у любого фильма есть автор. И даже несмотря на наличие больших продюсеров, ни один режиссер не станет отделять себя от того фильма, который он снял, если гордится им и всю душу туда вложил. Что же касается того, что нравится фестивальной публике, то считается, что им нравится что-то более интеллектуальное. Но, мне кажется, если история хороша и рассказана интересно, все это сработает как в одну, так и в другую сторону. Просто таких фильмов, к сожалению, очень мало.
— Вы как-то говорили, что современному российскому кино не хватает разнообразия жанров. Недавно видела, что скоро должен выйти фильм «Кракен», нетипичный для нас фильм про огромное морское чудовище. А каких именно жанров, по-вашему, недостает нашему кино и как можно изменить эту ситуацию?
— Думаю, я говорил об этом в контексте того, что сейчас зрителей можно заманить в основном только визуально очень богатыми, интересными проектами. И мне просто обидно, что другим жанрам, которые должны как раз брать своим сюжетом и историей, уделяется все меньше времени, они все больше скатываются в какую-то нишевую фестивальную историю. Но, к сожалению, пока я никак не могу на это повлиять. Надеюсь, что подобная тенденция изменится.
— Вы дебютировали с фильмом «Огни большой деревни», который хорошо приняли на фестивалях, но не так радушно встретил зритель. А потом прошлись по самым востребованным в нашем массовом кинематографе жанрам: спортивная драма, музыкальная сказка, сейчас семейное драмеди... Хотите попробовать свои силы во всем, чтобы найти свое направление, или суть не в этом?
— Абсолютно не в этом. Честно говоря, я никогда не мыслил категориями, которые вы сейчас озвучили. «Огни большой деревни» лет десять назад на «Кинотавре» были приняты хорошо. Но в целом это студенческий, кустарный фильм. Мне было сразу понятно, что у него не будет большого зрительского охвата и яркой прокатной судьбы. Это, скорее, мои пробы пера.
Фильм «Стрельцов» был моей мечтой, и это моя собственная идея. Потому что, если проводить параллели с лентой «Батя 2. Дед», то мой дедушка как раз рассказывал мне про Стрельцова (советский футболист, нападающий «Торпедо» и сборной СССР Эдуард Стрельцов. — «ВМ»), еще когда я был совсем маленьким. С тех пор я и стал мечтать снять про это фильм.
Что касается картины «Летучий корабль» — не то чтобы мы гнались за тем, чтобы снять сказку. Потому что, когда в 2019 году мы приступали к разработке этого фильма, еще не существовало сказочного бума — был только «Последний богатырь» и в запуске находился «Конек-горбунок». Но в силу разных технических сложностей в создании фильмов они выходят либо чуть раньше, либо чуть позже, поэтому сложилось именно так.
А фильм «Батя 2. Дед», мне кажется, такой потому, что у него много авторов. Потому что, хотя это покажется громкими словами, все мы — и я, и наш оператор Павел Медведев, и авторы сценария Алексей Литвиненко, Антон Зайцев, Павел Тихомиров, и художник-постановщик Денис Бауэр, и вся команда, которая работала над фильмом, — точно вложили туда по частичке своей души. Поэтому он вышел каким-то внежанровым. Так что я бы не сказал, что выбираю себе фильмы по жанрам. Главное — чтобы история была хорошей.
— Когда вы говорите о своей работе с актерами, часто упоминаете, что приглашаете их исполнить нетипичные для себя роли. В частности, сейчас Евгений Цыганов играет персонажа Деда и в молодости, и в старости одновременно. Вы ставите перед собой такую сверхзадачу — снимать артистов в непривычных им образах, в не характерных для них ролях?
— Каждый случай индивидуален. С героем в фильме «Батя 2. Дед» вышла отдельная история. Нам надо было, чтобы один актер играл сразу две возрастные категории, следовательно, и типажность здесь двоякая. Думаю, если представить Евгения Цыганова пожилым, то он в типаж как раз попадет.
Другое дело, насколько удачен пластический грим, ведь большим риском было строить все кино на этом. Но мне кажется, что у нас это вполне получилось.
— Такое решение словно создает ощущение молодого мужчины, запертого в пожилом теле. Как бы подчеркивает мысль, что душой мы не стареем. А вы сами на сколько лет себя ощущаете? Каков ваш внутренний возраст?
— Головой я ощущаю себя, наверное, чуть взрослее, чем есть на самом деле, но боюсь сам судить об этом. По-моему, сейчас вообще все мои сверстники, кому немного за 30, в основном обсуждают только то, что у кого болит да к какому доктору сходить. А когда вы начинаете обсуждать только свои болячки, возрастная планка сдвигается намного раньше.
— Дедушка, которого вы часто вспоминаете, был со стороны матери, верно? Потому что деда со стороны отца, фронтового кинооператора, автора документального кино Ефима Юльевича Учителя, если верно понимаю, вам застать не довелось. А что о нем слышали, каким сложился в вашем представлении его образ?
— Конечно, я спрашивал о нем папу, и не только его, но и многих из тех людей, которые успели поработать вместе с моим дедушкой. По их рассказам я представляю его себе каким-то таким опытным мудрецом. И чувствую, что, судя по тому, как меня воспитывал мой папа, его самого воспитывали какими-то подобными методами. Просто, видимо, мы все по-разному растем, и в зависимости от времени, в котором живем, по-разному реагируем на происходящее с нами. А методы воспитания у родителей и потом у их детей так или иначе схожи. По-разному расставляются акценты, конечно, но тем не менее...
— Одна из идей, которая прослеживается в фильме «Батя 2. Дед», заключается в том, что есть некая цикличность, повторение в семейной истории. Будто мы так или иначе как бы переигрываем судьбы наших предков. Замечали ли вы подобные сходства в своей жизни?
— Какие-то микромоменты в своем поведении, когда я поступаю, как папа или мама, порой, конечно, отмечаю. Но если посмотреть на их биографии, то мне кажется, что у моих предков жизнь сложилась более или менее удачно. И мне надо постараться не отставать от этого, да к тому же еще и создавать что-то свое. Как-то так меня настраивали с самого детства, в этой парадигме я и существую.
— Собственно, а как относитесь к династийности в современном российском кино? У нас сейчас много таких примеров. Даже в вашем фильме Ирину, жену Макса, играет Надежда Михалкова, а выступает в роли рассказчика, закадровым голосом озвучивает ленту ее отец Никита Михалков. И вы в профессиональном плане пошли по стопам отца, режиссера Алексея Учителя. По-вашему, насколько важна такая преемственность, в чем она помогает, а чем мешает?
— Мешает в плане того, что накладывает на тебя дополнительную ответственность. Но, с другой стороны, конечно, и помогает. Потому что если бы не было у меня папы-режиссера и мамы-продюсера, то и кино, думаю, я бы не стал заниматься, и жизнь моя сложилась бы совершенно иначе. Поэтому тут палка о двух концах. Не знаю, насколько это можно считать хорошим или плохим, до какой степени можно указывать на кумовство или что-то в этом роде. Но мне кажется, что когда у тебя родители заняты одним интересным делом, то в жизни должно что-то радикально измениться, чтобы дети пошли совершенно другим путем.
— Вы помните свое первое знакомство с кинофильмом? Может быть, первый поход в кинотеатр или просмотр материалов отца, или что-то еще? Как вы познакомились с кино?
— Я помню точно, что первым моим эмоциональным потрясением от просмотра чего-либо стал мультфильм «Король Лев», который я смотрел уже, не знаю, три тысячи шестьсот пятьдесят семь раз. Я его до сих пор очень люблю и пересматриваю. Правда, по-моему, я тогда его смотрел не в кино, а дома на кассете. Но первое знакомство было именно с ним. Впрочем, это никак не связано с тем, что потом моя жизнь пошла по кривой дорожке кинематографа.
— Вы так или иначе задействованы на съемочной площадке, начиная с 13 лет. Выполняли разные работы. Принимали участие в съемках массовых сцен. Помогали костюмерам. То есть ваш кинематографический стаж составляет почти 20 лет. Как за прошедшее время изменились ваши отношения с кино в целом?
— Оно просто захватывает все больше времени моей жизни. Вообще, для меня кино стало уже неотделимым от жизни. Работой назвать его очень сложно, потому что ты все равно находишься в нем 24 часа в сутки, больше ничем не занимаешься. Даже если отдыхаешь, все равно либо что-то смотришь, либо обсуждаешь, либо планируешь... Отключиться от этого просто невозможно. И тут не важно, в каком возрасте все началось, но если ты уже заболел кино, дальше деваться некуда.
— Говорят, вы хотели поступать на операторский факультет во Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова, но в итоге предпочли там же получить образование режиссера. Что вам дало обучение в мастерской у Владимира Хотиненко? Чему главному он вас учил?
— Он учил нас в первую очередь ремеслу. И Владимир Иванович, и Владимир Алексеевич Фенченко, наш второй мастер, все время в хорошем смысле заставляли нас что-то снимать. У нас было бесконечное количество заданий, которые были связаны в основном с монтажом после них. Ведь если ты технически понял, как у тебя какой материал снимается, то потом все обязательно смонтируется правильно. В плане понимания ремесла такой подход дает очень многое. Мне кажется, это самая верная система образования для режиссеров. Потому что, сидя за партой, невозможно научиться им быть — режиссера все равно создает только бесконечная практика.
— Если говорить о современном российском кино, на кого из ваших коллег, молодых режиссеров, вы бы посоветовали обратить внимание нашим читателям? Можете назвать пару имен тех, кто интересен лично вам?
— Мне кажется, эти молодые режиссеры сейчас известны всем. Например, лично мне очень понравился недавно вышедший сериал «Первый номер», который снял Клим Козинский. Или вот еще режиссер Юрий Хмельницкий, который работал над фильмом «Лед 3», по-моему, очень одаренный молодой человек, который обладает всеми качествами, чтобы стать большим режиссером.
— И последний вопрос. Поделитесь, пожалуйста, как коренные москвичи воспринимают Москву, какая она для вас лично?
— Тут сложно подобрать какие-то правильные эпитеты. Это родной дом. Я не могу себе представить, что смог бы жить в каком-то другом городе. Тут все мое, я все тут знаю, тут вырос. Все, даже какие-то его несовершенства, мне мило в родном городе.
ФИЛЬМОГРАФИЯ
- Батя 2. Дед (лирическая комедия, 2025)
- Летучий корабль (мюзикл, сказка, 2024)
- Стрельцов (спортивный, биография, 2020)
- Огни большой деревни (комедия, 2016)
- Пересадка (короткометражный, 2014)
- Стриптиз (короткометражный, 2013)
- Трубач и кукла (короткометражный, 2011)
- Дирижабль (короткометражный, 2010)
ДОСЬЕ
Илья Учитель родился 28 мая 1992 года в Москве в семье режиссера Алексея Учителя и продюсера Киры Саксаганской. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Владимира Хотиненко и Владимира Фенченко в 2014 году. В 2016-м полнометражный игровой дебют Ильи Учителя «Огни большой деревни» получил награды фестиваля «Кинотавр» за лучший сценарий, а также специальный диплом жюри «За лучшее кино о кино». А в 2024 году за фильм «Летучий корабль» Илья Учитель получил премию «ТЭФИ-KIDS» в номинации «Режиссер фильма или сериала для детей и семейного просмотра». В планах разработка фильма «Бабайка» и сериала «Выстрел».
Ранее «Вечерняя Москва» пообщалась с Всеволодом Шиловским — кинорежиссером, сценаристом, педагогом, народным артистом РСФСР.