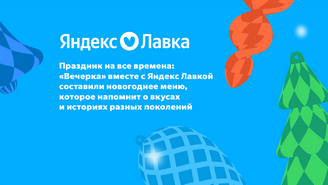Георгий Владимов: Остаюсь старомодным реалистом
[i]Писатель [b]Георгий Владимов [/b]всегда держался особняком.Всегда совершал неожиданные поступки, которые вызывали неадекватную реакцию властей, собратьев по перу, читателей и незрячей судьбы. Благодаря своей непредсказуемости он не «загнулся» в качестве советского писателя, автора «Большой руды». В 60-е напечатанный в «Новом мире» роман «Три минуты молчания» был восторженно встречен читателями, но заклеймен как литначальством, так и собратьями по перу.В 70-х снискал Владимов в советской прессе славу антисоветчика, напрямую не занимаясь политической деятельностью. Написал правдивый роман о войне «Генерал и его армия», удостоенный Букеровской премии, и вызвал гнев многих писателей-фронтовиков...Как водится, одаренный человек, реализовавшаяся личность не может не раздражать серых, малосильных и недалеких. Такова уж писательская планида, на которую Георгий Николаевич жаловаться не привык.Хотя жаловаться по большому счету и не приходится.Поскольку все это мелочи в сравнении с репутацией одного из самых порядочных писателей, ни разу не покривившего душой. Читатель Владимова верит ему, любит его, надеется на него.[/i][b]– После вашей эмиграции здесь на вас в печати столько грязи вылили, словно вы были главным врагом строя. За что такая «честь»? [/b]– У вас сложилось такое ощущение потому, что вы, наверное, «Правду» не читали. Там наносили главные удары. Мне же по роду деятельности положена была «Литературная газета». Столько там яду было выплеснуто на меня, что можно было и помереть. Но нервы уже были закалены. Все-таки 6 лет диссидентства, участие в правозащитном движении приучили, что мы враги этой системе. И ничего иного ждать от нее не приходилось. Мы тоже о том строе не очень ласково говорили.Ну, конечно, было тяжело. До того тяжело, что я даже подумал: хорошо, что моей матери уже нет в живых. Если бы она это все прочитала, наверное, ее тут же хватил удар.Сейчас есть возможность ответить. К тому же существует и суд, куда можно обратиться по поводу оскорбления или клеветы. Тогда ничего этого не было. Возможность ответить в эмигрантской печати? Ну ведь она же здесь в киосках не продавалась.[b]– Насколько мне известно, вы начали работать над «Генералом и его армией» перед эмиграцией. Следует ли понимать, что вы уехали к НТС в Германию для сбора информации об армии Власова? Потому что ведь было немало иных мест. Например, радио «Свобода», журнал «Континент», «Русская мысль»...[/b]– Нет, это не так. Я поехал не к энтээсовцам, а в издательство «Посев», где до того был напечатан «Верный Руслан» в журнале «Грани». Чтобы работать главным редактором журнала.Что касается Народно-трудового союза, то я не испытываю интереса к партиям, которые находятся не у власти. Ведь обещать можно многое, вплоть до бесплатных пирожных. Надо смотреть на конкретные дела. А конкретным делом НТС было издание наших книг. Вот в этом отношении они свой долг исполняли. И казались мне людьми, с которыми можно иметь дело.Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что они, как и всякая оппозиция, скопировали своего противника. Только более пародийно. В общем, это сколок с той же самой КПСС. Та же структура. И даже лексикон тот же самый.НТС надо было как-то доказывать свою необходимость. Поэтому сочинялись небылицы насчет того, что в России имеются всякие подпольные группы. Чуть ли не целый город находится у них в подчинении, хоть завтра восстание поднимай. И вот наконец-то вся Россия вышла из подполья — и где эти группы? Оказалось, что их никогда и не было. По крайней мере ни один из энтээсовцев не прошел в Думу.В общем, у нас с женой, она тогда работала ответственным секретарем «Граней», возник с ними конфликт. И мы вынуждены были уйти.[b]– Хлопнув дверью? [/b]– Конечно, я поссорился. И считал нужным сказать, что такое эта партия – Народно-трудовой союз. Чтобы люди в России не питали никаких иллюзий. Ну я и сказал все, что узнал об этой партии, об этих людях, об их программе. Это и вызвало скандал.[b]– Вообще-то скандалов было много. И в основном они происходили на поколенческой основе. Глезер и Шемякин воевали в Париже с первой волной эмиграции чуть ли не с маузерами в руках.[/b]– Третья волна, к которой принадлежу и я, особенно враждовала со второй. Она была настолько воинственно настроена по отношению к советской системе, что нельзя было произнести ни полслова хорошего о России, о нашей жизни. Все это и теперь рассматривается как конформизм и пресмыкательство перед советской системой. В этом крылась одна из причин моего конфликта с НТС.Нельзя было напечатать статью о маршале Тухачевском, чтобы не услышать: «Какая там у него была трагедия? Он сволочь, предатель!». До смешного доходило.Споришь с ними, говоришь, что Тухачевский расстреливал морячков, которых вы так ненавидите. «Правильно делал, что расстреливал!» А морячки ведь расстреливали офицеров, значит, Тухачевский правильно их расстреливал? «Правильно! Но все равно его надо было расстрелять!» Но расстрелял-то его Сталин, которого вы ненавидите... Эту чехарду они никак не могли вместить в свои мозги! Больше общего мы нашли с первой волной, потому что там люди по-иному воспитаны. Они понимали, что иное поколение не может полностью разделять их убеждения. Они были более терпимы. И осознавали, что так уж в России получилось: и все виноваты, и никто не виноват.[b]– При чтении «Трех минут молчания» возникает ощущение, что вы изрядно поплавали с рыбаками. Хотя в вашем досье таких данных нет. Откуда такое знание предмета, для сухопутного человека не достижимое? [/b]– А я плавал матросом три с половиной месяца в Норвежском, в Северном и Баренцевом морях. Это была сельдяная экспедиция. К тому же прочел много специальной литературы о море, о лове. По поводу всех моих вещей можно сказать, что многое дополнялось книгами, специальной литературой.[b]– За что критики так обрушились на этот роман? Чтобы снять Твардовского? [/b]– Конечно, прежде всего для этого. В последние его редакторские годы было постоянное настроение, что каждый номер – последний. Но к 1969 году уже стало ясно, что продолжения не последует. Мой роман стал последним, который Александр Трифонович подписал в качестве главного редактора. «Три минуты молчания» были очень удобной мишенью – мол, очернительство нашей жизни. Травля была дружная. Били и справа, и слева.[b]– Почему слева? [/b]– От многих людей, чьим мнением я дорожил, пришлось выслушать упреки по поводу того, что я якобы осуждаю интеллигенцию, воспеваю класс гегемонов. Это было очень странно. Но потом я разобрался, в чем дело. Роман приняли как аллегорию. Мол, траулер – это Россия. С ней происходит беда. И все люди разделились на шлюпочников, которым надо побыстрее отплыть, спастись в одиночку. И на корабельщиков, которые считают, что надо латать свое судно и на нем спасаться. Я-то этого не имел в виду.Но всегда, естественно, существует разное читательское понимание произведения. А так как тогда настроения были эмигрантские, то людям хотелось, чтобы их отъезд был морально оправдан. И меня восприняли как человека осуждающего. Хоть я никого из них не осуждал. Всегда считал, что у каждого должен быть свой выбор. К тому же уверен, что и в эмиграции человек может послужить своей родине, ее славе и величию. Отношение ко мне изменилось только тогда, когда был напечатан «Верный Руслан».[b]– Официальная критическая ругань всегда способствовала успеху произведения.[/b]– Да, у так называемого массового читателя – да. Роман был одной из двух-трех самых читаемых тогда книг. Были огромные библиотечные очереди. На северных флотах даже до того доходило, что люди от руки переписывали в тетрадки с машинописных перепечаток, думали, что это самиздат.[b]– А теперь вот повесть «Верный Руслан» включена в школьную хрестоматию. Это приятно? [/b]– Ну, конечно, приятно знать, что твоя вещь включена в фонд вещей, необходимых для образованного человека. Но хотелось бы, чтобы ученики, сдав экзамены, еще раз перечитали повесть. Ведь обязательное чтение с требованием разъяснения образов Руслана и Тунгуса – это школьнику скучно. Все-таки литературу нужно читать добровольно и из интереса. Когда мы в суворовском училище разбирали образ Хлестакова или Городничего, то было очень нудно. И казалось, что и пьеса такая. А через несколько лет прочитал, так оказывается, очень смешно и интересно.[b]– Знали ли вы в старших классах суворовского, что не пойдете по военной дороге? [/b]– Да, под конец казарма изрядно надоела. Я там был с 12 до 18. Тогда уже писал стихи. Но при этом понимал, что не надо идти в литературный институт. Пустая трата времени. Надо поступать в любой другой, где можно столкнуться с жизнью. И пошел на юридический. Там можно увидеть и жизнь, и ее изнанку. И довольно долго, будучи уже писателем, часто ходил в суд слушать всякие дела. Так, кстати, Вера Панова делала. Это я по ее совету.[b]– В молодости вы писали со слов генералов военные мемуары. Это делалось для заработка или еще из каких-то иных соображений? [/b]– Да не я один. Мы этим занимались для заработка. Но так оказалось, что эта работа в дальнейшем мне очень пригодилась. Именно она натолкнула на мысль написать роман о так называемой генеральской правде. «Солдатская правда» была уже отработана в произведениях писателей-фронтовиков. А об этом еще никто не писал. Именно так родился «Генерал и его армия».[b]– Намерены ли вы продолжить военную тему? [/b]– Больше писать об армии и о войне я пока не собираюсь. Решил наконец-то написать о себе роман. Его действие начинается в августе 1946 года, когда мы с моим другом-суворовцем пошли к Зощенко выразить сочувствие по поводу постановления о журнале «Звезда».Но вовремя сообразили, что нехорошо будем выглядеть в черной форме с голубыми погонами. Зощенко, конечно, был человеком храбрым. А жена могла подумать, что арестовывать пришли. Поэтому взяли с собой нашу подружку, тоже пятнадцатилетнюю, в которую, конечно, мы были оба влюблены. И она пошла во всем белом, для контраста с нами.Подошли к дому 9 по каналу Грибоедова и запустили подружку первой. Девушка спрашивает у Веры Владимировны, можно ли нам повидаться с писателем Зощенко...Нас выдала соседка, которая слышала, как мы читали рассказы Зощенко и смеялись. Выпросила книжку и с ней пошла в политотдел. Следствие длилось полгода.Мы, конечно, все рассказали, считая долгом чести не лгать нашим воспитателям. Все винтики государственной машины содрогнулись: как же воспитывают в суворовских училищах?! Лишь Вера Панова поддерживала Михаила Михайловича в трудную минуту. Да пришли выразить свою солидарность двое суворовцев. И все, никто больше! [b]– Чем этот кошмар закончился? [/b]– Нас стали убеждать, чтобы мы сказали, что были у Зощенко до постановления, до доклада Жданова. И на открытом комсомольском собрании мы так и поступили. И следователи подтвердили эту ложь. Причем нам было сказано, что если мы не пойдем на это смещение времени, то нас просто уничтожат. Конечно, потом это сказалось. Велась слежка за всей семьей. Через шесть лет после этого арестовали мою мать...[b]– Этим эпизодом, по-видимому, действие романа не ограничивается? [/b]– Это лишь первая часть романа. Вторая – как бы прощание с Ленинградом перед эмиграцией. И третья – эмиграция. Первую часть надеюсь в этом году сдать в «Знамя».[b]– Следите ли вы за здешней литературой? [/b]– Как же можно не следить? Последнее, что я прочел, – роман Владимира Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени». Читал не отрываясь. Но есть там и то, что меня коробит. Скажем, ненормативная лексика, множество описаний экскрементов, физиологизмов.[b]– А Пелевин, который у всех на устах? [/b]– Ну, Пелевин от меня дальше. Все-таки я остаюсь старомодным реалистом. Понимаю, что это талантливо, что это замечательно придумано, но мне это чуждо.[b]– Кто были ваши учителя? [/b]– В детстве очень любил Джека Лондона. В молодости – Хемингуэя. Ну а сейчас, конечно, русская литература. И выше всех – Толстой. Огромное влияние на меня оказал Солженицын.[b]– Почему сейчас на него многие окрысились? [/b]– Его ждали в России. И каждый хотел его заполучить – чтобы он поддержал своим авторитетом. Но этого не случилось – Солженицын так и остался беспартийным, не примкнул ни к какой партии. Естественно, это многих разочаровало. Кроме того, многих он коробит как нравственный авторитет. Есть раздражение по этому поводу. Мол, ты богат, поэтому можешь быть и честным. А мы вынуждены жить, кормиться. Приходится жить и по лжи, и пресмыкаться приходится. Когда он затевал свои лекции по телевизору, то несколько недоучел аудиторию.Но мне кажется, что он еще и немножко поотстал. Здесь многое переменилось, многое ему самому в новинку. И не все понятно. Сколько не наблюдай издалека, а 20 лет отсутствия сказываются.[b]– Не пора ли возвращаться и вам? [/b]– Я, конечно, хочу большую часть времени жить здесь. А совсем переехать крайне трудно. Проживя 15 лет на Западе, приспособившись к той жизни, очень трудно вернуться в прежнюю страну. А страна-то уже совсем иная. Надо как следует понять, что же здесь происходит.[b]– Ну страна, может быть, приблизилась как раз к Западу? [/b]– Я бы не сказал. Все-таки у России свой путь. Российская жизнь и раньше резко отличалась от западной, и сейчас резко отличается. Чтобы к этому приспособиться, надо какое-то время. Поэтому я хочу оставить за собой небольшой плацдарм, чтобы туда выехать, поработать. Как это делают Аксенов, Войнович.