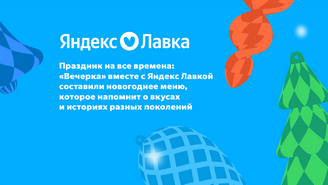По Кустурице: в Театре имени Вахтангова прошла премьера спектакля «Сто бед»
Сюжет:
Эксклюзивы ВМПремьера спектакля «Сто бед» по мотивам произведений известного сербского режиссера Эмира Кустурицы состоялась на Симоновской сцене Театра имени Вахтангова. Подробнее о постановке — в материале «Вечерней Москвы».
Не каждый возьмется за перенос историй Кустурицы с экрана на театральные подмостки, а не наоборот. Это сложная задача, что делает ее еще более привлекательной. В Вахтанговском театре посчитали, что время пришло. Сценическую адаптацию по мотивам произведений Кустурицы, чье творчество отличается парадоксальностью и непредсказуемостью (включая сборник рассказов «Сто бед» и автобиографическую книгу «Где мое место в этой истории?»), создала и поставила по заказу театра режиссер Галина Зальцман.
...Известный кинематографист Эмир (Евгений Кравченко) приходит в пустой зал заброшенного кинотеатра, где когда-то в детстве приобщался к волшебному миру кинематографа. Это было в другой жизни, еще до войны, до бомбардировок американцами его любимого Сараева. Вспоминает о детстве, юности, друзьях... Сейчас здесь, среди ободранных кирпичных стен и старых кресел, он рефлексирует, пытаясь «остановить время». И как бы пишет сценарий для своего будущего фильма.
На маленьком экране — панорама старого Белграда с его мостами и парками, затем кадры из его любимого «Амаркорда» Феллини. Сценография Семена Пастуха приведет нас через продуманный хаос вещей в подвал, где абсурд нарастает. Забавный «придурок» Зеко (Егор Разливанов) «разговаривает» с невидимым карпом в огромном аквариуме, затем ныряет туда в маске, практически топится, но его спасает любовь.
Зеко искренне считает рыб самыми мудрыми существами на свете: «Рыбы молчат не по глупости, они находятся между жизнью и смертью и уже все знают!». На это как бы намекает и загадочно виляющая пышным хвостом над сценой анимационная рыба. Похоже, намекает на древний библейский символ в отсутствие православного креста.
Кустурица, стремясь к познанию мира, на наших глазах «раздваивается» на юного и зрелого. Юный, еще в той сладкой Югославии, — это Владимир Симонов — младший. Зрелый, уже после рокового 1999 года, — Евгений Кравченко. Что сказать? Похож. Копна жестких волос, верблюжье пальто, жесткий сербский акцент, как у самого прототипа. Кстати, готовясь к роли, артист пересмотрел все его фильмы и был ими просто поражен. Как в свое время была ими восхищена и режиссер Галина Зальцман:
— Мне с юных лет нравятся фильмы Эмира Кустурицы. В них есть свобода, умение смеяться в самых грустных местах и парадоксальное поведение людей, что довольно часто встречается в реальной жизни. Просто не все это замечают. Больше всего мне нравится то, что Кустурица всегда рассказывает про людей, он удивительно умеет видеть человека — такого человека, который порой не знает, «где его место в этой истории». На мой взгляд, главное качество Кустурицы — умение смотреть на мир с позиции любви. У него всегда есть герой, непохожий на стереотипного героя; война, которая, прикидываясь балаганом, подбирается все ближе; и любовь, которая все победит.

Войну «как балаган» мы увидим (скорее, услышим как взрыв) лишь в последние минуты спектакля. А время его действия вполне мирное — последние десятилетия XX века, с 1970-х и вплоть до 1999 года, когда Югославию разбомбили силы НАТО. Место действия — три прекрасных югославских города: Травник, Сараево и Белград.
Герои (две пары разного возраста) пытаются разобраться в своих чувствах. Юные — хаотично, на наших глазах взрослея через первую любовь. Пожилые, прошедшие испытание долгой жизнью под одной крышей, — осознанно, относясь друг к другу с нежностью и заботой. Проблемы героев зачастую наивны, но по-человечески понятны. Так, мама и папа скрывают друг от друга, что находятся в больнице (причем в одной). А в другом уютном доме муж прячет от жены заначки в местах, о которых супруга прекрасно знает.
А война, развал страны — это лишь страшный фон — как сон, одна большая беда. Режиссер пытается воспроизвести предчувствие надвигающейся катастрофы, рисуя тот знаменитый хаос, балаган цыганского табора, который царит в фильмах Кустурицы. Задача непростая. То, что выглядит органично на экране, на сцене производит иногда странное впечатление. Так, окончательно запутывая зрителя, в этом спектакле каждый артист играет несколько ролей.
Артем Пархоменко воплотил персонажей-отцов, Славо и Брацо, а Светлана Йозефий — трех дам — мать Кустурицы, семижильную Аиду и любвеобильную Азру. Егор Разливанов сыграл Драгана, Зеко, Цоро и курьера, Михаилу Коноваленко достались роли Алексы, Горана и Црни. На долю Сергея Барышева пришлось четыре персонажа: Недо, гроссмейстер Светозар Глигорич, танкист и милиционер. А в ролях Миляны и медсестры — Анна Ляхова. Легко, конечно, запутаться в этих атомах, которые складываются в одну молекулу. Но все артисты — и опытные, и юные — играют отчаянно, без оглядки. К тому же эти истории переплетены между собой, герои воспринимаются как члены одной семьи.
О том, что «завтра будет война», напоминает и музыка. Как без нее в спектакле о Кустурице? Музыка для него всегда значила многое. Многие годы режиссер играл фолк-рок в музыкальной группе The No Smoking Orchestra. И здесь тоже играют музыканты, причем живьем, давая дополнительные невероятно сочные краски. Причем ритмы и мелодии взяты прямо из его фильмов. И под них лихо двигаются даже шахматные фигуры и доски в сцене одновременной игры.

Спектакль, конечно, не банальный, не развлекательный, а серьезный и глубокий. И смотреть его не очень комфортно. Кое-кто из зрителей не выдерживает и уходит. И финал страшный, хотя и открытый. Взрыв, рыло танка прорывается в кинотеатр... Кино кончается, наступает жизнь, которой никто не рад. Судьба героев после 1999 года нам (да и автору тоже) неизвестна. Мы сами ее дорисуем. Оставим их живыми и счастливыми. А эта бытовая, в сущности, история напомнит спустя четверть века о горьком. О том, «по ком звонит колокол». О скрытой ране на теле Европы. По сути, перед нами первая за многие годы внятная (при всем обаятельном фирменном балагане) сценическая версия того, что случилось с прекрасной Югославией. И напоминание об ответственности, которую несет за это не только художник.
А в Театре Моссовета состоялось возрождение спектакля «Машенька». Примечательно, что это одна из немногих советских пьес, сумевших покорить и Бродвей. Более того, она была поставлена там во время тяжелейших лет Второй мировой войны. Американская публика увидела эту пьесу под другим названием: «Послушайте, профессор!».